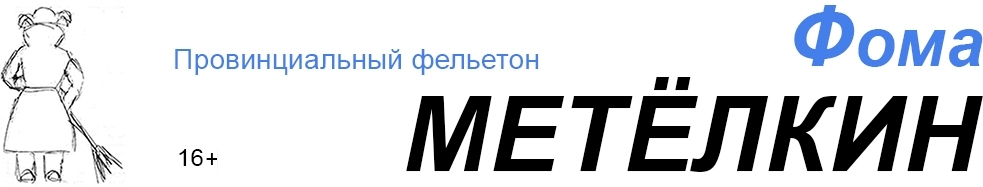Солнце играло само с собой, гоняя зайчиков по салону машины. Асфальтная
лента дороги исчезала под колесами километр за километром. Радио во все лады
предрекало конец света, крах экономики, сводками с фронта курсы валют и цену на
нефть. Все это перемежалось с веселой музыкой и воплями типа: «Нам ничего не
страшно, и мы все умрем.»
Какой-то адский симбиоз паники и бестолкового пофигизма. Бредовая кутерьма,
так похожая на нашу повседневную жизнь. Может, ее сжатое в сгусток
олицетворение? Щелчок выключателя на руле и просто Весна! Тишина, солнечные
зайчики в салоне, шелест колес по асфальту, сигаретный дым рывками, улетающий в
приоткрытое окно. Жизнь.
Я ехал в Ржев. Ехал на свидание, на поклон.
На холме, еще укрытый лесами и специальными баннерами, стоит или летит в
небе Солдат. Величественная, монументальная фигура, родившаяся в головах, в
сердцах, в душах двух молодых парней. Парней, которые не видели войны, которые
и слышали-то о ней уже, наверное, из третьих рук. Но если смогли выдать такое,
значит, смогли почувствовать, смогли увидеть. А остальные, кто построил и
вознес Его на пьедестал, смогли осознать, что это Важно.
У подножия, среди тысяч фамилий, выбитых на специально заржавленных панно,
в ожидании совещания кучками собирались или бродили люди. Кто-то шутил, кто-то
решал производственные вопросы. Час по-деловому короткого совещания, десять
минут дороги, и я здесь, откуда Его на своих солдатских плечах, своими душами
привели на постамент.
Такое же рыжевато-ржавое, как на памятнике покрывало прошлогодней травы.
Голые, но какие-то уже живые, проснувшиеся под теплым весенним солнцем деревья
встряхивают, потягиваясь, ветви. На прошлогодних черных отвалах раскопов, как
первый пушок на юношеском лице, тонкие щетинки зелени. Яркие зеленые пятна на ржавом
покрывале, как олицетворение вечной жизни.
Я сел на поваленное на краю обрывистого берега Волги дерево и, свесив в
старую траншею ноги, пускал облака табачного дыма и думал. Или хотел подумать,
выгрузив из головы все то, что набилось в нее за последние недели. Привалившись
плечом к избитой осколками и пулями старой сосне, смотрел на убегающую в даль
вечность реки.
Тонкими ручейками сбегая вниз на дно траншеи, осыпался песок. Ручейки
увлекли за собой вниз первого весеннего муравья. Исчезнув на дне, он вновь
начал свой путь вверх к свету и ветру.
А я почувствовал, что, привалившись плечом к старой сосне, сидит Он. Нет,
не тот с памятника, сурово-величественный. А Он – такой, каким его видел я. В
выцветшей на солнце пилотке, чистом, но местами аккуратно залатанном
обмундировании. Со старым, затертым до цвета натуральной кожи, солдатским
ремнем, застегнутым на аккуратно пробитые ножиком дополнительные дырки. В
изрядно поношенных, но аккуратно подремонтированных ботинках и линялых
обмотках. Он молча смотрел на реку и пускал облака дыма, глубоко затягиваясь
через замысловато смятый мундштук папиросы. Дым его папиросы смешивался с моим
и серым облаком висел в безветренном воздухе.
- Страшно?
- Не знаю. Как-то суетно и непонятно.
- Страшно. Страшно от того, что непонятно за что, с кем Вы.
- Думаешь нам тут не страшно было? Не боятся только сумасшедшие. А мы через
ад тут прошли. Все – и верующие, и атеисты. И те, кто выжил, и те, кто остался
тут навсегда. Мы ад видели.
- Да, я знаю.
Он усмехнулся. Щелчком выбил вниз папиросу и достал, прикурив от зажигалки
новую.
- Знаешь? – сощурился от попавшего в глаз дыма, снизу вверх выглянув из за
сосны, посмотрел на меня.
- Ты думаешь, что знаешь. Чтобы знать, надо пережить. А Вам, слава Богу,
это не выпало.
- Страшно Вам? Страшно, что бумажки ваши обесценятся? А что жизни ваши и
души обесценились не страшно?
От мора прячетесь? Правильно прячетесь, раз
сделать ничего не можете всем миром. Или только на словах мир у Вас, а так
каждый сам за себя? Мы, когда тут в окопчике перед наступлением сидели, студент
наш московский, занятный парень, байки нам травил, что после войны человек в
космос полетит, что лекарство изобретут от всех болезней, что войн вообще
больше никогда не будет. Образумятся люди. Много знал он, много из того, что
говорил сбылось. Дети наши сотворили, те, что нас знали и помнили, и Долг свой
перед нами выполнили. А Вы?
У студента вот детей не было. Не довелось ему, вот
под твоими ногами он в траншейке лежал, в том году его подняли и на погост
отнесли упокоиться.
Я не произвольно поджал ноги и увидел на дне характерное пятно раскопа
годичной давности.
- Так что вы, «испуганные», свершили, чтоб помирать не страшно было? – с
прищуром спросил он, выглядывая из-за смолистого ствола.
- Я, мы… - начал бормотать в ответ я.
- Му. Мы. Вот так и промычали вы всю жизнь. И дальше пытаетесь мычать, –
без злости, а с каким-то разочарованием не дал мне договорить солдат.
- Какая-то зараза крошечная Вас бьет. А вы крутитесь каждый сам за себя,
попрятавшись, что сделать не знаете.
Мечетесь, даже то, что Вам говорят делать,
чтоб не сдохнуть, не можете. Деньги у вас пропадают. Бизнесы Ваши рушатся.
Сколько добровольцев врачам помогают? Десятки? Сотни? Почему не десятки тысяч?
Почему медсестер и врачей так мало? А продавцов, торгашей и барыг так много?
Почему у каждого из Вас в кармане по телефону за сто тысяч, а медицинских
приборов нет? Вот и прикладывай к голове свой телефон, мож, пронесет, не
заболеешь…
Он опять привалился плечом к сосне, закинул лицо к солнцу и выпустил в небо
тонкую струю дыма.
- Нас в день по 15 тысяч на повал и в клочья война косила. И 20 тысяч в
строй новых вставало, чтоб на фронт идти. Мы тоже с чумой боролись, только та
чума нам шансов «выздороветь» совсем не давала. Не было бы там выживших.
Вставали и шли. А смерть, она не страшная, если знаешь за что. Если знаешь, что
после тебя останется, и что впереди будет. Мы знали. А вы? Вам и страшно
потому, что не знаете Вы, ради чего живете. Те, кто думают, что знали, и те
поняли, что, то ради чего они живут, - пыль. И маленькая, микроскопическая
зараза за секунду это все перечеркивает. И пустота...
Я почувствовал какое-то дуновение сзади и обернулся. В солнечных лучах
стояли, держась за руки, четверо. Высокая красивая девушка в юбке защитного
цвета и гимнастерке с погонами танкиста, склонив голову на плечо молодого
летчика с тремя орденами на груди и черным смоляным чубом над веселыми глазами.
И двое медиков: хрупкая, маленькая девушка, старший лейтенант, и высокий
капитан с орденом «Красной звезды» на гимнастерке. Это были мои дедушки и
бабушки. Они, улыбаясь, смотрели на меня. Солдат обернулся. Коротко кивнул им,
будто здороваясь, и опять взглянул на меня из-за ствола сосны.
- И они знали. Те, кто с фронта вернулся. Вы и сейчас спасаетесь и живете
тем, что они создали. Те, кого они выучили, Вас лечат и спасают. Ими созданная
наука Вас пока выручает. Там, за ними, целое поколение.
Поколение созидателей.
Поколение, Которое Знало, за что живет и умирает. Все было ради Вас, ради
будущего.
Он замолчал.
Я смотрел на лес в солнечных лучах и на Своих.
Четверо, помахав на прощание мне рукой, обнявшись парами, растворились в
солнечных лучах леса.
А мы молча смотрели на реку. Солдат опять достал и прикурил папиросу,
что-то еще он хотел мне сказать, что-то еще грызло его.
- Страшно Вам. Неуютно. А всего-то: магазины с тряпками закрыли, да
развлекуху Вашу тупую. А Вы завыли. Не по Душе своей, а по привычному для вас
удобству завыли. Ты-то подумал, за что помирать-то будешь?
- Думаю, - глядя на реку, ответил я.
- Все бы Вы подумали, как жить! Пока есть время и шанс. Если и сейчас не
поймете. Надо ли Вам вообще жить? Зачем? Чтобы есть, пить, спать, в телефонах
своих торчать. Ни творить, ни созидать, а только небо коптить. Тогда вон, проще
муравьев оставить.
Он кивнул на выползавшего на бруствер муравьишку. Того самого, что он
ненароком отправил несколько минут назад на дно глубокой траншеи.
- Он, вишь, не останавливается, лапки не опускает, отряхнулся и опять вверх
к солнцу, к свершениям. Его из муравейника отправили узнать, что да как. Не
пора ли входы муравьиные с зимы открывать. Вот он старается, не за себя, за
ради общества своего, муравьиного. А Вы, что, ради кого делаете?
- Думай, солдатик!
Он встал, отряхнул с галифе налипший сухой песок и пошел в солнечный лес.
Гордо выпрямив спину, заложив руки сзади за ремень. Обернулся, как-то хмыкнул,
ухмыльнувшись, и растаял.
Не было? Чушь?
Да было. Потому как сидел я на берегу реки и отвечал на поставленные себе
Его вопросы. Как так получилось, что умирать нам страшно и жить страшно? Как
получилось, что сами себе не верим, в людей не верим? Кто виноват? Власть?
Олигархи? А они все не люди? Откуда, из какого теста все беды и проблемы? Вот и
доказывает нам какая-то бацилла, что вместо того, чтобы вверх стремиться,
природу, космос, покорять, мы вширь разрастались. Жиром заплывали и барахлом
ненужным. Вот и дали нам последний, наверное, шанс подумать и оценить.
А умирать всегда страшно, но ужасно, когда не понятно, за что и ради чего...