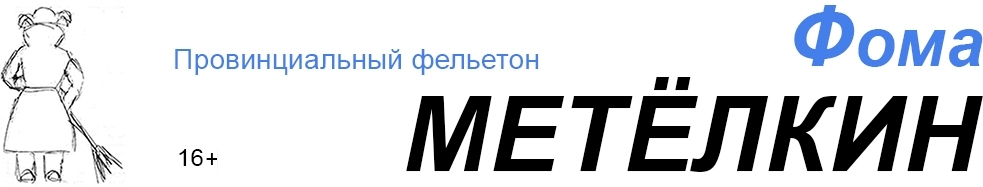Я деревня. Люди говорят, что мертвая и на их картах я обозначена каким-то липким словом «урочище». Но я не мертвая, я раненная. Раненная, но не убитая.
Лес - мой давний соперник и беспокойный сосед - почти забрал мои поля и луга, засадив когда-то тонкими, а сейчас уже стройными березками и елками. Дивная, шелковистая, как чистые девичьи волосы, трава моих заливных лугов, которую раньше на заре выходили косить крепкие бородатые мужики в простых холщовых рубахах, эта трава превратилась в страшный, непролазный бурьян.
Река - моя давняя подруга и кормилица, весной заливавшая своей черной, но чистой водой эти луга, отгородилась от меня кустами и ивами, будто спрятавшись от людей, боясь, что и ее они убьют. Ее и не видно теперь. Деревья и кусты надежно укрыли ее от чужих глаз. Мои, некогда шумные, такие ровные и красивые улицы с крепкими срубами живых домов давно поросли полынью и бурьяном. Дома разрушились и бревна их исчезли. И только редкие, как старые солдаты, одичавшие яблони и груши остаются мне верны, и несут свою службу, охраняя мои, почти стершиеся, границы. Они, да старая кирпичная церковь без куполов и колоколов, разрушенная в ту последнюю войну, ту самую страшную, смертельно ранившую меня и тысячи других деревень в России, Белоруссии и на Украине. Они дают мне ниточку жизни.
Церковь укрыл лес, засадил по периметру тонкими стволами деревцев, словно понимая, что даже он, дикий, необузданный, как сама природа, должен спасти и сохранить это место для людей.
Меня убивали не раз. Много веков назад, когда только пришли сюда люди. Они остановились на обрывистом, красивом берегу реки, стали корчевать лес, строить дома. Отложив мечи и луки, сняв тяжелые стальные рубахи, они своими мозолистыми руками ровняли, отвоеванную у леса землю, и сеяли хлеб. Дым печных труб наполнился запахом этого свежего теплого хлеба и во мне зародилась жизнь. По моим улочкам стали бегать босоногие, шумные и веселые дети. Женщины с распущенными светлыми волосами полоскали на свежеструганных мостках в реке белье и пели красивые, тихие песни. На холме у ручья появилась церковь с резными наличниками, деревянными, крытыми дранкой, куполами. И тихим, торжественным звоном колоколов.
А потом появились они. Ворвались на низеньких лошадях на мои улицы черной волной. Даже летом они были одеты в звериные шкуры и коду, напоминая диких зверей. Почти все мужчины погибли в бою у церкви, у частокола. Женщин, многие из которых брали мечи из рук погибших мужей, тоже убили. Других, связав веревками и выстроив в колонны, угнали на чужбину, в рабство, и они не вернулись. Церковь и дома сожгли с гиканьем и улюлюканьем, кружа на своих приземистых лошадках вокруг огромных костров. А небо, глубокое, синее небо, стало черным.
Потом наступила тишина и только небо плакало дождем, охлаждая мою горячую от ожогов пожарищ землю. А река несла в своих водах тела моих жителей.
Лишь немногих тогда укрыл лес, и они вернулись. Собрали тела погибших, похоронили их. И с упорством, достойным уважения даже природы, стали восстанавливать меня. Они построили каменную церковь с горящими золотом золотыми куполами, построили новые, еще более просторные дома, и сделали широкие улицы. И снова золотом загорелись хлеба на полях, заблестели изумрудные луга у реки, и поплыли над рекой девичьи песни, детский смех. Только на окраине, у леса, появилось кладбище, куда часто ходили люди и поминали тех, первых погибших от рук врага, но не сдавшихся своих предков.
Так мирно текли годы, десятилетия, столетия. Дома стали двухэтажные, появились мощеные камнем дороги и деревянные тротуары. Через реку перекинулись два моста, у леса люди отвоевали еще земли, где паслись большие стада и росли хлеба. Выросло новое здание и его назвали "Школа". Туда ходили в основном дети, и их веселый задорный смех звучал в этом районе.
А потом была новая орда. Сначала ушли мужики. Воем и слезами у околицы их провожали женщины, а дети тихо молчали, враз превратившись в маленьких старичков. А потом пришли чужие. С длинными ружьями, саблями в высоких шапках с притороченными к ним перьями, они как любая орда говорили на десятках разных языков. Разномастной и разноцветной, разноголосой волной они затопили мои улицы. Врывались в дома и выгоняли на мороз женщин, детей и стариков. Рубили на дрова яблони и груши. Извели не богатую, после ухода мужиков, скотину. Пожилого сельского священника, пытавшегося остановить их, выносящих из храма старые иконы, с суровыми ликами святых, походя, как бы между делом, зарубили саблей. Его тело два дня лежало на крыльце разоренного и сожжённого храма. А белыми, седыми волосами играла морозная вьюга. Но и эта орда сгинула, сошла как весенние воды реки. Канула в небытие, вытянулась колонной и растворилась в лесу.
Вернулся кое-кто из мужиков. Убитого священника похоронили у церкви, его могила и сейчас там, укрытая тихими ивами. Восстановили храм и опять над рекой и полями полился колокольный звон и детский смех. Жизнь текла. Иногда также с воем провожали куда-то, на войну, мужиков. Немногие возвращались. А те, кто приходили, смотрели на все пустыми, стеклянными, страшными глазами. Многие из них были без рук и без ног. И не устроившись в трудном крестьянском хозяйстве, или пили самогон и буянили, с дракой, вымещая на других черную злобу, или, собрав нехитрые пожитки, уходили в город. Менялись флаги над зданием старосты. Церковь то закрывали, то открывали. Там то молились, то смотрели кино. Но она так и оставалась местом, где собирались люди. Веселый парень провел какие-то провода и, повесив странную черную штуку, включил бодрую музыку. Теперь все жители мои вставали утром с боем далеких Московских курантов.
По улицам, раскинувшимся уже на добрый десяток километров вдоль реки, пылили грузовики и трактора, раздирая летний зной своим тарахтением и гудками.
Школу расширили, пристроив к ней еще одно двухэтажное крыло, и детская ватага уже напоминала по численности и составу половецкую орду, налетавшую по ночам на сады и огороды. И я была счастлива. Счастлива вместе с моими жителями: радовалась каждой свадьбе, каждому рождению нового своего малыша, как его Родина и его мать.
Но земля наша не дает покоя, наверное, всем ордам. И вот у черного репродуктора собрались все жители и опять взрывом прогремело: «Война». Опять завыли бабы, опять мужики, парни и даже старики, и девушки грузились на машины, и исчезали в пыли и ветре войны.
И опять неслось над околицей: «Я вернусь, мама!». И опять пришли они! Они как единый слаженный механизм, одетые в форму одного цвета, с одинаковыми горшками стальных шлемов на головах. С орлом на груди держащим в лапах паука свастики. С одинаковыми пустыми, стеклянными глазами. Они даже двигались одинаково, выбивая из-под ног повешенных в первый же день раненых солдат и женщины, их укрывшей, учительницы моей школы, табуретки. Они одинаково безразлично стреляли и в собак, верно стороживших дома своих хозяев и маленького ребенка, бравшего воду у колодца, который они назвали своим.
С четкостью и безразличием машин, они загоняли в колхозную ригу моих жителей и сжигали их заживо, после того как мать застреленного у колодца мальчика бросила гранату в дом, где жили их солдаты. Также механически, четко и без эмоций они сжигали мои дома, также как тысячи лет назад это делали кочевники, но молча, механически, без эмоций.
И я поняла, эта, движимая не животным порывом, а точным и четким расчетом, орда самая страшная. У нее нет эмоций, она пришла жечь и убивать, не терзаясь сомнениями и дотла. Они ушли и остались стоять черные остовы печей и белеть, среди углей домов и риги, человеческие кости.
Потом через меня прокатился фронт. Заросшие пепелища домов испахали окопами с обеих сторон моей главной улицы. Снарядами и бомбами изрыли мои поля и луга. Нашпиговав землю железом так, что в ней не осталось места для зерна.
В развалинах церкви наши русские солдаты насмерть дрались с серыми безликими людьми, и я увидела их первые эмоции - это был страх. Дикий, безудержный страх преступника перед правосудием, у которого одно наказание за его грехи - смерть. А потом, когда по моим сожжённым улицам шли колонны бойцов, я видела, как один из них - пожилой солдат, бывший мой житель, обнял чудом уцелевший остов печи своего дома. Тихо набрал в кисете горсть пепла и, молча встав в строй, ушел туда, на Запад. Откуда уже дважды приходила орда.
И там еще долго гремели пушки. А моя земля, сожженная, изодранная железом, отдыхала. В наступившей тишине я ждала, когда вернутся люди и как сотни лет назад начнут восстанавливать свои дома.
... Но они не пришли. Наверное, последняя война уничтожила всех и оборвала все концы и дороги к своей земле. Они затянулись так же, как сначала затянулись травой и лесом воронки и окопы. Заросли кустами, а потом и лесами дороги ведущие к моим околицам.
Лес восстановил все свое, с таким трудом отвоеванное у него людьми. Спрятал под зеленым навесом и травой могилы сельского кладбища. Могилы тех, кто дал жизнь этой земле и боролся за ее свободу в далекие времена. А у тех, кто лег в мои поля в последнюю войну, не было могил. Долго их кости белели на склонах воронок и траншей. Пока лес не прикрыл и их. Лес сберег только руины церкви. Может он тоже хочет дать людям шанс вернуться, может и он решил сохранить для них хоть какой-то маленький путь к родной земле.
В тишине, теперь в мире с рекой и лесом, под голубым небом я много думаю о том, что было бы на моих улицах сейчас. Если бы не войны. Какой красоты и совершенства достигли бы мои дома и улицы? Какой бы сейчас огромной была бы моя школа? А может и не одна? Если бы все мои жители, погибшие во всех набегах и войнах, остались бы живы и прожили бы свою жизнь в мирном труде и давшие бы этой земле потомство. Какие бы невиданные машины, придуманные ими, оставшимися в живых, колесили бы по моим асфальтированным улицам или бороздили бы синее небо над моими каменными домами. Или мчались бы к далеким звездам в ночном небе над моими бескрайними полями. Но орды чужих людей убили их и смертельно ранили меня.
Я умираю! Я - русская, белорусская, украинская деревня, сожженная войной! Спасите меня, вернитесь к берегам моей тихой реки, здесь до сих пор могилы Ваших предков. Работайте и земля Вас прокормит. Дайте мне жить и над золотыми полями с хлебом снова полетит колокольный звон и детский смех.
И еще, знайте, мир на этой земле возможен только тогда, когда страна Ваша будет такой сильной, что все ее соседи будут до ужаса бояться подойти к границам этой страны с оружием в руках. И помните, они никогда не простят Вам мужества, величия и милосердия Ваших предков. Будут всегда завидовать Вам, будут пытаться очернить Ваше прошлое, отобрать и извратить Вашу веру. Будут пытаться заставить предать Вас могилы Ваших предков и память о них. Для того, чтобы забрать Вашу землю и сделать Вас рабами.
А сделать это куда проще, расселив Вас по муравейникам городов, разделив экранами компьютеров и смартфонов, заменив истинные эмоции и чувства виртуальными, навеки оторвав от корней и могил предков, от красоты родной земли.
Сергей Мачинский