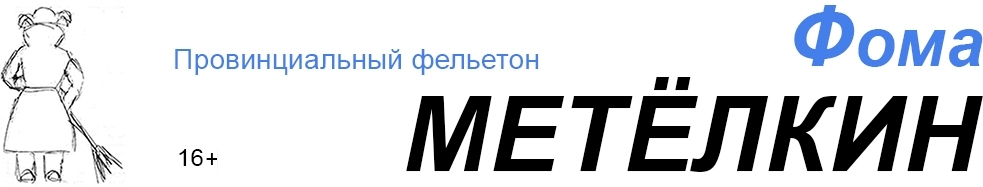Почему они не встретятся
В городах давно уже голый черный асфальт и грязная взвесь из-под колес пролетающих автомобилей, а здесь снег. Черный, ноздреватый, грязно-серый, как заношенная старая скатерть, которую скоро уберут в стирку и застелют земной стол новой, нежно-зеленой, с цветами и травами. А пока, весна рыжими проталинами прошлогодней травы начинает сворачивать зимнюю скатерть с опушек лесов и полян, мы, проваливаясь на подтаявшем насте, бредем вдоль болота к затерянному в лесу «передку» одного из участков Северо-Западного фронта.
Воздух… Он здесь прозрачный, его можно пить, потому что он ощущается физически, как вода, он наполнен запахами прелой травы, болотного мха, сосен и елей. Запах табака здесь разносится, наверное, на километры, обозначая присутствие человека. Я сижу на поваленном дереве и смотрю на высоту. Болото, небольшой песчаный кряж с кривыми, чахлыми елками, а за ним высотка. Небольшая, километра два в диаметре, поросшая лесом, как нос утопающего в болоте человека, вынырнувшего из трясины, пытаясь схватить ноздрями живительный глоток воздуха.
Между нами метров двести. Только что я был там. Там, в окопах и воронках, в ходах сообщения, землянках и блиндажах лежат солдаты, и я их видел. В ржавых касках, раскинув руки, они обнимают в последнем рывке землю и, свернувшись калачиком, как в утробе матери, получив очередь в живот, они остались в утробе земли. Я был там, я их видел, их много, очень много.
Глядя на высоту, я вижу, как грибами из траншей торчат их каски. Мне кажется, я вижу, как поднимается дым самокруток над траншеями, они беззвучно говорят и смеются над какими-то своими шутками, как рассыпанными иглами блестят вдоль бруствера штыки винтовок. Встали... рывок... Вот пятеро пулеметчиков выбежали на кряж с левого фланга, раскинули сошки «дегтярей» и кинжальным огнем в упор со ста метров ударили по немецкой траншее на другой, противоположной стороне. Их нашли раньше, несколько лет назад. Пять пулеметчиков на песчаном кряже, разорванные немецкими минами. С правого фланга, блестя иголками штыков, молча, цепью пехота... Рывок… Траншея... Черные пятна... А шинели убитых на склоне солдат похожи на крылья странной неведомой птицы.
Я их видел. Они дошли до немецкой траншеи и в ней остались. Их нашли, и я могу Вам рассказать о них, я могу представить, глядя на зазубренный край ржавой солдатской лопаты, как они рубились в рукопашной с врагом. Как потом, отбив у врага этот кряж и подножье высоты, хоронили товарищей, как готовились отбивать немецкую контратаку, укладывая на бруствер противотанковые гранаты. Я видел их, я дышал с ними одним воздухом, потому я могу представить, как они умирали, разрываемые снарядами и минами, сползая, раскинув руки по стенкам окопов, с немецким железом в груди. Я хочу почувствовать ту боль, которую чувствовали они, и я пытаюсь это сделать здесь, в тишине, у подножья высоты, потому что хочу остаться или стать человеком. Я могу представить, как в болото падал объятый пламенем штурмовик, как метался, пытаясь отстегнуть ремни в горящей кабине, молодой парень. Мы можем это представить, потому что мы рубились к месту его гибели под дождем на вездеходе четыре часа.
Мы видели реки, ручьи и болота, над которыми он воевал и за которые он погиб. Мы выворачивали из болота его грозную боевую машину. Мы - взрослые мужики - стояли у его кабины, видели эту мощь советской брони и представляли ее объятую пламенем, несущуюся с неба. А я стоял и думал, какой бы восторг, именно щенячий восторг, я бы испытал, попав сюда в свои 14 лет. Я помню, как я хотел хоть одним пальцем прикоснуться к проржавевшей винтовке за витриной музея. Именно к проржавевшей, к той, где была надпись: «Найдена на полях сражений».
Мне казалось, что только она настоящая, ведь ее точно держал в руках солдат той войны. Но не увидят дети ни высоты, где до сих пор в туманной дымке дождя мелькают над бруствером солдатские каски. Ни грозную машину Ил, своим бронекорпусом возвышающуюся, как скала или памятник погибшему экипажу над болотом. Не вдохнут влажный, морозный воздух с запахом костра, не почувствуют вкус кроваво-красной брусники, не увидят то, что видели в последние минуты жизни их прадеды, не увидят красоту своей страны. Не выпьют у костра самого вкусного чая из безымянного ручья. Не будут думать о душе, о жизни, о себе и своем месте в этой и другой жизни, глядя на медленно ползущее по поленьям пламя костра.
Почему? А потому что кто-то решил, что это не нужно, опасно и вредно. Потому что кто-то, сидя в кабинетах различной высоты и значимости, так решил. Потому что педагог с сорокалетним стажем, воспитавший целые поколения граждан этой страны, сказала мне: «Я больше не могу!». Не может, потому что ей не дают! Потому что вместо помощи и содействия - стена безразличия и безответственности. Потому что, лучше ничего не делать, чем, не дай Бог, ошибиться! Потому что лучше заменить запах костра бездушным светом монитора. Ведь так безопасней, нет, не для детей, а для себя. Взрослого, красивого, успешного, находящегося на пике карьеры. Потерять все это из-за какой-то "сумасшедшей" тетки, которая тащит детей в какой-то дикий лес. Ведь проще для отчета вывести их на митинг у памятника и сказать красивую речь, показать военное кино, а кому надо, тот оценит «мудрость» руководителя и безопасность «патриотического» мероприятия.
Только вырастет что? Аморфное нечто, не знающее ни Родины, ни могил дедов своих. А куда пойдет это нечто? И хотят ли они быть этими аморфными амебами?
Ведь тому, кто толкает людей на преступления и бунт, не нужны согласования и СанПины, он просто выведет пацанов и девчонок на площади, загадив им мозги за заморские деньги и одурманив мозг громкими лозунгами. Бросит их в топку бунта ради своей выгоды, и не сможем мы уже рассказать правду об истории своей страны, потому что не станет уже нас. Потому что из-за трусости сотен человек, тысячи, десятки, а может сотни тысяч не увидят солдат на пригорке и не узнают об их славе, не почувствуют той боли, не осознают величия их подвига.
Вы, решающие за них, что им нужно, вспомните, что Вас поставили на посты и рассадили по кабинетам, чтобы помогать нам, «сумасшедшим», везти их на встречу с Великим прошлым. Я очень хочу, чтобы лежащий в болоте грозный Ил, хранящий в себе душу молодого пилота, почувствовал на своем исковерканном вражеским снарядом борту тепло детской ладошки, с трепетом прикасающейся к его разорванным стальным листам, чтобы в болотном оконце отражались восторженные ребячьи глаза. Чтобы у костра на меня смотрели не только мудрые, избитые жизнью, все в ней видевшие глаза взрослых людей, но и задумчивые, теплые своей невинностью детские, светлые и пытливые взгляды, с играющим в них пламенем костра! Чтобы на болотном кряже встретились, наконец, солдаты и правнуки!
Сергей Мачинский