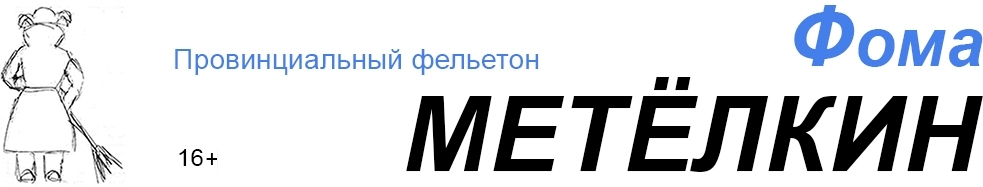Скалы. Поросшие мхом, в серых потеках воды, огромные каменные стены, местами они просто вертикально уходят в туман. Как когтями зацепились за них редкие сосны на пологих склонах и вершинах. Вольготно уселись в низинах и перепадах более везучие деревья. И здесь вечная философия жизни, кому повезло, кому нет. Одно семечко зацепилось за каменистый склон и вся жизнь - борьба с ветром, камнем, непогодой. Кривой, скрученный ствол, ветви в одну сторону. А другое - медленно упало во влажный перегной низины. Стройная, с высокой шапкой ровненьких веток, но пила лесоруба сделает правильный выбор.
Скалы все время о чем-то шумят. Ветром в кронах деревьев, течением ручейка, в дождь превращающимся в водопад. Шелестом или грохотом одинокого скатившегося камушка или рекой камнепада. До человека двадцать верст и следов нашего, людского пребывания здесь - только старая лесовозная дорога, а через пару километров и вообще дико. Поистине, чужеродно выглядит здесь груда, в несколько тонн, искореженного дюраля, в котором только человек понимающий сможет опознать обломки погибшего самолета. Серебряным застывшим ручьем под листьями расплавившийся в адском огне, будто вчера, алюминий. Как сломанные ноги, подломленные стойки шасси. Рвань плоскостей, с выцветшими красными звездами.
Склон оживает. Как муравьи, люди переносят железо с места на место. Что-то перебирают, рассматривают. Во время перекура большей частью тишина и мысли, в которых вспышки. Зимний аэродром, рев моторов. В морозной дымке такие неуклюжие на земле бомбардировщики, как сытые большие жуки выстраиваются на «рулежке» и, смешно подпрыгивая и переваливаясь на неровностях грунтовой полосы, натужно ревя на разгоне моторами, гася свет бортовых огней, исчезают в тумане. Зеленоватый, какой-то инопланетный свет приборов в кабине. Заиндевевший плексиглас кабины, пар, вырывающийся изо рта. Покрытые сединой инея, вороненые стволы пулеметов, тихий писк «морзянки» в наушниках шлемофона. Молодой пилот, сосредоточенно вглядывающийся в затянутое пеленой тумана небо, штурман, красными от мороза пальцами перемещающий части логарифмической линейки и переносящий расчеты на карту. Стрелок, перебирающий тускло блестящую золотом начищенной латуни пулеметную ленту.
Облака обступают, будто повисают на обледенелых плоскостях машины. Темнеющее небо вокруг начинает швырять заряды снега навстречу, будто прогоняя людей. Самолет, кажется, зависает в невесомости темных облаков и его движение перестает ощущаться. Кивок штурвала вперед, еще, еще, ниже, ниже, чтобы пробить толщу облаков и зацепиться взглядом усталых глаз за землю.
Медленное дерганное движение зеленой стрелки высотомера на уменьшение. И вдруг взгляд выхватывает впереди серую стену камней. Резкое движение на себя, взвывают моторы, скрежет плоскостей о ветви деревьев, чудовищный удар, вспышка и… Что там за этой чертой, я не знаю.
Видение отступает, остается лишь тупая ноющая боль. Откуда она? Мне кажется, все места, где лежат погибшие и долгое время числившиеся пропавшими без вести люди, это капища Боли, устроенные Смертью. Почему? Потому что, неся в себе боль погибших, оно долго питается болью живых. Почему мы плачем, когда провожаем в последний путь близкого человека? Потому что это нам больно, больно, что его нет рядом с нами, мы жалеем себя, ведь ему, ушедшему, уже все равно и он, я очень надеюсь на это, в другом, лучшем мире. Со временем, мы это осознаем, и наша боль утихает, переходя в память или канув в небытие, забытая за ежедневными делами и проблемами живых.
А боль от известия, что пропал без вести? Вот же дьявольская штука. Она жива, пока жива память живых людей. Она бередит рану, раз за разом подкидывая версии: в плену, ранен, покалечен, лишился памяти, уехал за границу и там остался. Да что угодно, вплоть до похищения инопланетянами. И эта боль многократна, от количества людей близких и любящих пропавшего. Она передается по наследству, от отца к сыну. С его рассказами о пропавшем и пожелтевшими фотографиями в старом семейном альбоме. Боль роится вокруг старых окопов, стрелковых ячеек, воронок. Этой болью просто пропитались сгоревшие обломки танков и самолетов. И на нашей земле еще десятки этих капищ, собирающих чужую боль. И если плюнули, отмахнулись от боли внуки, это не значит, что потухнет боль. Она, может, разгорится в правнуках или праправнуках, которые забудут отмахнувшихся от своей боли родителей и будут искать свое капище. Только упокоение, память и должное почтение павших за нас может уничтожить эти сгустки, эти метки боли на нашей земле.
Странный парадокс, так может она и нам нужна эта боль, чтобы хранить память о павших? Я не знаю. Очень все сложно. Но тогда, наверное, эта боль должна быть общей. Ее должны испытывать все, от президента до первоклашки. Поделив эту боль и оставшись людьми, мы сможем не допустить появления новых капищ, новых серых, порождающих вечную боль, извещений с записью, похожей на приговор сильным и как толчок к предательству слабым – «Пропал без вести».
Сергей Мачинский