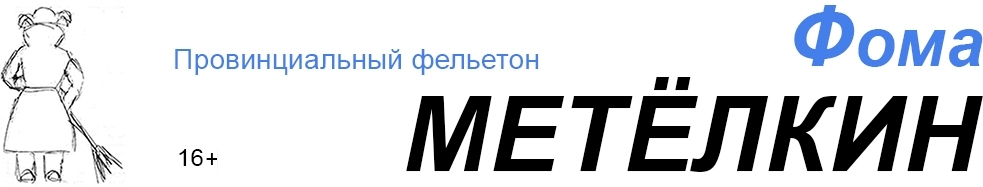Он шел впереди. Шел по камням, обходя частые воронки.
Он был обычный. Среднего роста, в немного мешковатой, но опрятно сидящей
шинели. Из-под разлетающихся при ходьбе пол шинели мелькали выцветшие, застиранные
солдатские обмотки и чиненые не раз, но еще крепкие ботинки. За обмотку была
засунута самодельная алюминиевая ложка. Лица я не видел, но почему-то знал, что
у него простое лицо, лицо доброе и усталое. Мы шли с ним по его высоте, его
горе, его Голгофе, которую он разделил с сотнями своих товарищей.
Он сел на камень, повернувшись ко мне спиной, достал
кисет, свернул самокрутку и закурил. В клубе дыма я на секунду, на миг увидел
то, что видел тогда он. Додумал то, что видел здесь, в тишине, сам и увидел.
Обмотанная колючей проволокой и утыканная минными
полями, как новогодняя елка гирляндами и игрушками, стояла в заснеженном болоте
гора. Минные ловушки, рвы, выдолбленные в камне с устланным путанкой и
спиралями бруно дном, страшные капканы на людей. Сотни каменных укреплений,
дотов и дзотов. С немецкой основательностью и финской смекалкой и коварством
оборудованные позиции и укрепления передовой линии.
Столбы дымов облаками поднимались с обратного склона
высоты, где бурлила жизнь ротных и батальонных тылов вгрызшегося в скалу врага.
Размеры высоты и отсутствие у нас крупнокалиберной артиллерии позволяло не
очень опасаться обстрелов. В передовых траншеях наблюдатели оттирали иней с
оптики биноклей и стереотруб. Живой пар человеческого дыхания растворялся в
морозном воздухе.
Вокруг не замерзших еще ламбин и болотных окон,
черными язвами зияющих на белом снегу, курился пар, будто это были окна в
преисподнюю, наполненные чернотой человеческих грехов и злых мыслей. Замерзая у
кочек, бугорками белых маскхалатов и горшками замазанных известью касок замерла
штурмовая группа, ночью вышедшая на рубеж атаки.
Сперва свистом наполнился воздух над головами
впадающих в забытье от холода солдат. Затем донесся грохот полевых орудий и
частые хлопки минометов. В шуршании второй волны налета раздались первые
разрывы, и вражеские траншеи наполнились визгом железных и каменных осколков, и
зачернели сколами и впадинами воронок. Люди, разгоняя стылую кровь движением и
адреналином, адским коктейлем ненависти, собственного страха и желанием жить,
рванули вперед. Хлопнули первые ПОМЗы и «шпринги», крики и первые красные на
белом пятна оторванных ног, развороченных животов. Первые сугробами нависшие на
проволоки тела погибших товарищей, по не остывшим еще трупам которых лезли живые.
Первая в секундной тишине окончания скудной артподготовки заполошная пулеметная
очередь. Первый взрыв влетевшей в траншею «лимонки». Первый хрип из
разорванного отточенной саперкой горла. Первый сиплый выдох пропоротого штыком
легкого. Первая в упор очередь из автомата в тесноте траншеи. Все это
превращается в постоянный гул и становится дыханием войны здесь на долгие дни.
Захваченный плацдарм, несколько извилистых, наспех под
огнем вырытых траншей, несколько сотен метров исклеванного железом камня. Не
прекращающийся вой мин и снарядов, вражеских и своих недолетов. Воздух, будто в
летний зной наполненный насекомыми кровососами, наполнен пулями, жалящими даже
друг друга. Воздух трещал от напряжения и злобы. Раскаленные стволы пулеметов,
автоматов и винтовок. Летящие в лица горячие гильзы, рваные, раскаленные до
красна осколки, визжащие рикошетами от камней сплющенные пули. Война дышала
кузнечным горном, обжигая своим дыханием людей, заставляя их корчиться от боли
и замирать в миг смерти.
Плацдарм корчился, как сгорающая в огне кожа.
Корчился, но жил. Плевался смертью, блевал кровью и кишками. Устилал камни
телами и памятниками из прострелянных, некогда белых касок, но продолжал жить.
Он шел на подкрепление, ночь второй или третьей волны.
Не шел, а крался под невеселый салют осветительных ракет и трассирующих
очередей. Шел, выполняя приказ. Шел, все зная о плацдарме. Поднимался на скалу,
понимая, что это его испытание, его Голгофа. Выпущенная ночью наугад мина
разорвалась под ногами. Он тихо шагнул в огненный куст разрыва, как в ворота
вечности. Дойдя до вершины своей Голгофы и оставшись у подножья земной скалы.
Их тела еще долго рвало осколками и пулями. Землю
вокруг них усыпали пули разных калибров и стран. Как уснувшие на зиму шмели,
зарывались в мох на долгие десятилетия. После гибели плацдарма ни наши, ни
враги не смогли убрать и засыпать их тела на ставшей теперь нейтралкой земле.
Облако удушливого смрада накрывало передовые траншеи. И часовым у пулеметов
иногда чудилось, что они слышат шевеление белых червей в человеческой плоти.
Слепые, испуганные очереди новичков резали воздух над призраками плацдарма и их
дырявыми, начавшими уже ржаветь касками, и в 42-м, и в 43-м, и в 44-м. А потом
наступила тишина, тишина на долгие годы. Природа прибрала их истерзанные тела,
прикрыв одеялом мягкого, как домашнее лоскутное одеяло мха. Спрятала, обрушив с
брустверов разбитых траншей вековые валуны. Лес подарил им тишину, не став
засыпать скалу буреломом и сохранив скорбными памятниками, нашпигованными
железом деревьями. Мы, живые, почти смахнули их в пучину забвения, и вечная
тишина окружила и наши души.
Я нашел его у подножья высоты, в воронке, в которую он
упал. Памятником над ним возвышались три осины, скрыв тело корнями, обняв его,
прикрыв от ненастья. Мы шли с ним по скале, и он спускался со своей Голгофы, а
я поднимался куда-то.
За чем это писать? Зачем говорить, что не видел точно,
а лишь додумал? А кто и как тогда вспомнит об этих десятерых неизвестных
солдатах с горы Гонкашваара? Кто узнает, что творилось здесь много десятилетий
назад? Как передать и рассказать их правнукам, что воздух здесь гудел от железа?
Что до сих пор ковром лежат притихшие пули. Как описать, что видели и
чувствовали они, видя, как тела их товарищей красными, кровавыми облаками
разрывают мины и снаряды? Видеть, чувствовать огненное дыхание войны и
зловонное дыхание смерти и продолжать сражаться? Как толкнуть наши замерзшие,
закисшие от жира мозги к мысли: «А я что смог? Что смогу, если потребуется?»
Как перестать себя убаюкивать сказкой о всемирном братстве и единении в экстазе
демократии? Как скинуть с себя липкое, мерзкое, вонюческлизкое: «Оно мое, оно
мне надо?» Как оценить сделанное ими, если оно, сделанное, перенесенное ими, не
укладывается в понимание современного человека?
Мы все, каждый, как бы он не крутил сейчас у виска,
читая эти строки, встанем у подножия своей Горы, встанем и пойдем на нее рано
или поздно. И кому-то придется на нее идти одному, оставив у подножья машины,
квартиры, дома и горы цветных бумажек и пластиковых карт. А кто-то идет по ней
всю жизнь, и когда нас встретят на вершине, там решат – в вечность или в
забвение. А билет не купить за все деньги мира. Его можно заработать в пути.